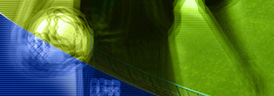Суббота, Декабрь 24th, 2011
Одним из механизмов интегративной деятельности является билатеральное регулирование. Многоуровневый характер интеграции различных свойств человека, вероятно, обусловлен многообразием механизмов интегративной (Ch. Sherrington) или синтетической, системной деятельности больших полушарий головного мозга (И. П. Павлов). Физиологической школой И. П. Павлова были всесторонне изучены такие механизмы этой деятельности, как условные рефлексы и временные связи, первая и вторая сигнальные системы, динамические стереотипы и т. д. В последние десятилетия были разработаны учения о функциональных системах (П. К. Анохин, А. Р. Лурия и др.), об общей архитектуре интегративной деятельности мозга (I. Konorski) и т. д.
Представление об интегративной деятельности значительно расширилось благодаря изучению глубоких структур мозга, кортико-ретикулярных связей, успехам электрофизиологии и нейропсихологии. Можно сказать без преувеличения, что фронтальное движение всех психоневрологических наук к познанию мозговых механизмов, обеспечивающих целостность индивида, характерно для современности. Весьма важную роль в этом движении играет кибернетика и ее теории саморегулирующихся систем, информационные модели и математическое описание общей конструкции мозга. Эшби принадлежит, в частности, кибернетическая интерпретация конструкции головного мозга как иерархического, субординационного контура регулирования информационных потоков с циклами обратных связей. Этот контур является основным, но У. Р. Эшби [1962] допустил существование дополнительного контура для высших уровней регуляции поведения, не определив, впрочем, конкретного набора механизмов, обеспечивающих функционирование этого дополнительного контура регулирования. Однако в качестве некоторой модели этого контура он рассмотрел взаимодействие рук в сложном действии (например, игры в теннис), которое, по его мнению, осуществляется при некоторой самостоятельности больших полушарий головного мозга, относительно других отделов центральной нервной системы.
На основании наших многолетних исследований мы пришли к выводу, что этим дополнительным контуром регулирования следует считать совместную работу обеих гемисфер головного мозга, взаимную индукцию в них основных нервных процессов, названную И. П. Павловым парной работой больших полушарий.
Мы пришли к изучению закономерностей этой работы от психофизиологии сенсорных систем, сопоставляя их бинарные функции (бинокулярное зрение, бинауральный слух и т. д.). Почти за четверть века в наших лабораториях были изучены общие принципы бинарного функционирования различных сенсорных систем, в том числе взаимодействия сенсорных полей, их латерализации и образования доминантности одного из парных органов.
«Правшество», «левшество», амбидекстрия были обнаружены вслед за давно описанными явлениями психомоторной сферы во всех сенсорных системах. Общность сенсорных и психомоторных феноменов функциональных асимметрий дала основание нам уже в 1952 г. усмотреть их центральную природу в парной работе обеих гемисфер. Такое предположение было проверено электроэнцефалографическими и -электромиографическими опытами, под- твердившими факт кортикальной природы бинарного функционирования. Затем мы распространили этот подход на исследование сосудистых и секреторных парных органов, с деятельностью которых связано регулирование энергетических потоков. Сопоставление различных рядов (сенсорного, моторного, сосудистого, секреторного) и выявление условий, определяющих латерализацию в каждом из этих парных рядов, дало нам основание считать, что в каждый отдельный момент нервной деятельности обе гемисферы являются доминантными; одна из них (чаще всего левая у человека) доминирует в регулировании информационных потоков, другая (чаще всего правая у человека) доминирует в регулировании энергетических потоков. Именно этот способ регулирования информационных, энергетических потоков мы назвали «билатеральным регулированием». Более полно нами описано взаимодействие иерархического (вертикального) и билатерального (горизонтального) контуров регулирования в книге «Человек как предмет познания» [1968].
Рассмотрим некоторые данные, характеризующие билатеральное регулирование как один из механизмов интегративной деятельности мозга.
В нашей лаборатории проведен ряд исследований образования и дифференцировки условно-сосудистых рефлексов с обеих рук (см.: Р. А. Воронова [1956]; М. Д. Гузева [1956]). В опытах М. Д. Гузевой [1956] показано, что имеется переход от симметричных реакций сосудов рук к асимметричным… вновь к симметричной реакции более высокого (обобщенного) уровня.
В опытах В. П. Лисенковой обнаружены различия в условно-сосудистых реакциях обеих рук по глубине отклонения (в мм), по времени реакции (общему ВР) и величине латентного периода (в с). Ниже приводятся извлечения из этого исследования. В процессе формирования условных рефлексов на временные раздражители и дифференцировки этих раздражителей у большинства испытуемых наблюдалась ярко выраженная количественная асимметрия, когда реакция на действие условного раздражителя на одной руке была сильнее выражена, чем на другой, как в первой, так и во второй, и в третьей сериях эксперимента (см. табл. 15, 16).
Таблица 15
Средние данные глубины отклонения, продолжительности реакции и величины латентного периода, полученные в первой и второй сериях опытов
В. П. Лисенкова пришла к выводу, что не только в пространственной дифференцировке, но и в отражении времени человеком обязательна парная работа больших полушарий головного мозга.
Н. А. Розе [1970] показала, что энергетические затраты увеличиваются на дифференцировку напряжения левой, практически нетренируемой руки. Имеет значение и возраст, как это видно из табл. 17.
Таблица 16
Данные экспериментов первой и третьей серии опытов
Подвижность степени психомоторной асимметрии с возрастом увеличивается, причем после нагрузок происходит сглаживание психомоторных напряжений обеих рук за счет все большего вовлечения правой гемисферы (соответственно контрлатеральной проекции левой руки) в общий контур регулирования психомоторных функций.
Динамические преобразования в структуре взаимодействия рук весьма показательны. Если в условиях вестибулярных нагрузок степень асимметрии уменьшается, то в условиях комплексных психофизических нагрузок и интеллектуальной деятельности степень асимметрии, напротив, увеличивается (за счет уменьшения тремора правой руки и увеличения тремора левой).
Таблица 17
Коэффициент асимметрии (в % ) до и после нагрузки
Мы остановились на билатеральном регулировании психомоторных и сосудистых реакций обеих рук именно потому, что взаимодействие рук рассматривается в общей теории биологического регулирования как модель дополнительного контура этого регулирования. Но мы располагаем также тщательными исследованиями взаимодействия монокулярных систем в бинокулярном восприятии формы и величины, выявляющих их роль в образовании перцептивных констант и перцептивных полей зрения, а также бинмануальной гаптики.
Интеграция сигналов и построение сложных изображений разных модальностей обеспечивается, наряду с другими механизмами синтетической деятельности головного мозга, взаимодействием обеих гемисфер и образованием системы подвижного уравновешивания регуляторных функций каждой из них.
В познании сложных психофизиологических систем с разнородной структурой, образующихся путем интеграции, наиболее эффективны интердисциплинарные исследования, акту- альность которых возрастает по мере превращения проблемы человека в общую проблему всей современной науки.
В изучение человека вовлечены науки о природе, точные и технические науки, все без исключения гуманитарные науки. На почве изучения человека объединились естествознание и история, медицина и педагогика, техника и экономика, математика и психология. По нашим подсчетам, в систему наук о человеке входит более 270 научных дисциплин, объединенных в шесть основных разрядов (науки о Homo sapiens как биологическом виде; науки о человечестве и исторических общностях; науки о взаимодействии человека и окружающей природной среды, включая ноосферу и освоение космоса; науки о человеке как индивиде и его онтогенезе; науки о личности и ее жизненном пути в обществе; науки о человеке как субъекте практической и теоретической деятельности). Вся эта грандиозная система наук все более сосредоточивается на разностороннем изучении главнейших фундаментальных проблем человека и его развития. Именно эти проблемы становятся центрами интердисциплинарных связей, как показано в ряде наших работ [Б. Г. Ананьев, 1957; 1962; 1965; 1967].
Интердисциплинарным связям в изучении человека посвятил свою известную вечернюю лекцию на XVIII Международном психологическом конгрессе Ж. Пиаже — «Психология, ее интердисциплинарные связи и место в системе наук» [1966].
В трудах XVIII Международного психологического конгресса, в материалах специального симпозиума американских ученых, «Interdisciplinary relationships in the social Sciences» дан обзор интердисциплинарных связей и поставлены проблемы их проектирования и управления наукой. В этом плане Д. Т. Кэмпбелл (Donald Т. Campbell) предложил схему построения интердисциплинарных связей, названную им «Fisch-Scale Model цf Onnisciensё» за сходство с чешуйчатой структурой, обеспечивающей наибольшее соприкосновение смежных компонентов.
Ряд интердисциплинарных подходов был осуществлен в публикациях Vita Humana. Нам представляется особенно важным ряд статей об интердисциплинарных связях в сборниках «Человек и общество», систематически издаваемых издательством Ленинградского университета. В 10 выпусках этой серии 1966-1972 гг. были опубликованы многие комплексные работы психологов, антропологов, социологов, юристов, экономистов, педагогов…
Всевозрастающее многообразие знаний об этих процессах, обусловливающих целостность человека, позволяет в настоящее время более полно представить человека в научной картине мира, в которой сформулированы биологические, психологические и социальные характеристики в их взаимосвязях. Однако нужны еще многие и многие комплексные интердисциплинарные исследования исторической природы человека (теоретические, экспериментальные, при- кладные), с помощью которых можно было бы изучить важнейшие взаимосвязи между основными свойствами человека как индивида, личности, субъекта деятельности и индивидуальности.
Суббота, Декабрь 24th, 2011
Одна из наиболее важных задач современной психологии — построение общей теории индивидуально-психического развития человека. Известно, что до настоящего времени сложились лишь теории, одна из которых (генетическая психология) определяет закономерности психического развития ребенка и подростка, другая (психогеронтология) характеризует психофизиологические синдромы старения и старости. Таким образом, «в центре» психологического познания развития человека оказались ранний и поздний этногенез, а «на периферии» именно те фазы человеческой жизни, которые являются наиболее продуктивными, творческими и социально активными. Возможно, такова объективная логика онтогенетических исследований. Дело в том, что для определения нижнего порога зрелости необходимы знания как о генезисе тех психофизиологических структур, сформированность которых обеспечивает оптимальные режимы их функционирования, так и о возрастных синдромах отрочества и юности. В такой же мере для определения верхнего периода зрелости необходимы знания о процессах и эффектах старения, завершающихся определенными синдромами старости.
Благодаря почти вековому накоплению этих знаний обнаружены примечательные онтогенетические сдвиги: ускорение процессов созревания (общесоматического, полового, нервно-психического) и замедление процессов старения, особенно в сфере интеллекта и личности современного человека. Основным следствием этих онтогенетических преобразований является расширение возрастного диапазона зрелости, ее потенциалов трудоспособности, интеллектуального и личностного развития. Все это свидетельствует о том, что единая научная теория индивидуально-психического развития не может быть построена без специальной разработки ее фундаментального раздела — возрастной психологии зрелости или взрослости. Впервые эта задача была поставлена в 1928 г. Н. А. Рыбниковым, предложившим назвать этот раздел возрастной психологии «акмеологией». С 20-х гг. нашего столетия интенсивно развиваются прикладные аспекты психологии взрослых, особенно связанные с их обучаемостью (Э. Торндайк, Э. Бриджмен, И. Тилтон, Э. Вудъярд), а затем в различных областях индустриальной психологии и психологии спорта.
В 50-60-х гг. обобщены некоторые итоги сравнения экспериментальных данных о различных возрастных периодах зрелости (В. Шевчук, Д. Б. Бромлей, Н. Бейли и др.).
Накопление за последние десятилетия сравнительных характеристик разных периодов жизни взрослых людей, с помощью которых отграничивались эти периоды от отрочества и ранней юности, с одной стороны, старости — с другой, позволило расчленить зрелость на определенные макропериоды: раннюю взрослость, средний возраст, пожилой возраст и ряд переходных состояний между ними, В современной антропологии и психологии имеются различные классификации, совпадающие лишь в одном — признании качественного своеобразия возрастных изменений зрелости или взрослости. Что касается определения основных периодов зрелости, то они совпадают не только в метрических, но и в топологических характеристиках. Так, например, некоторые авторы начало зрелости называют юностью: по В. В. Гинзбургу, этот период у мужчин охватывает время от 16-18 до 22-24 лет, у женщин — от 15-16 до 18-20 лет; по В. В. Бунаку, ранняя юность отграничена 17-20 годами, а поздняя юность охватывает период 20-25 лет, который Д. Б. Бромлей называет периодом ранней взрослости — с 21 года по 25 лет; Д. Биррен объединяет юность и раннюю взрослость в общий период с 17 до 25 лет.
Еще большей неопределенностью отличаются характеристики и временные границы среднего возраста или средней взрослости: от 20-35 лет (Д. Векслер), 25-40 лет (Д. Б. Бромлей), 25-50 (Д. Биррен), 36-60 лет (по международной классификации возрастов). Некоторые употребляют в отличие от понятия «взрослый» понятие «зрелый» применительно к возрасту 40-55 лет (В. В. Бунак, В. В. Гинзбург и др.), разделяя тем самым средний возраст на разнокачественные периоды.
Экспериментальных оснований большинство из этих схем не имеют. К тому же остается открытым вопрос о том, существуют ли критические моменты и переходные состояния, разделяющие раннюю и среднюю взрослость, каков вообще характер психофизиологического развития в эти периоды: полностью ли стабилизирован функциональный уровень всех психофизиологических структур, каковы самые ранние проявления инволюции и псевдоинволюции в виде временных снижений функций, каковы оптимумы для одних функций? И т. д.
Невозможность получить ответы на эти вопросы до настоящего времени объясняется главным образом тем, что в экспериментальных исследованиях применялось сопоставление данных о макропериодах путем группирования испытуемых в большие возрастные группы, охватывающие для среднего возраста многие годы жизни (например, по Д. Б. Бромлей, от 25 до 40 лет), во всяком случае — не менее 10 или 5 лет.
Метод возрастных («поперечных») срезов крайне редко корректировался лонгитюдинальным, с помощью которого непрерывно прослеживается ход индивидуального развития. Еще более серьезным недостатком является слишком глобальный характер характеристик, не учитывающий противоречивость развития в каждом из его периодов. Все эти недостатки были учтены нами при организации коллективного комплексного исследования, начатого в 1965 г. Это исследование осуществлялось параллельно с двумя циклами работ. Первый из них (сектора психологии НИИ общего образования взрослых АПН СССР и лаборатории дифференциальной психологии ИКСИ) развертывался, последовательно охватывая возрастные контингента год за годом — от 18 до 35 лет.
Благодаря комплексному характеру исследования специально изучались основные интеллектуальные функции, общая структура интеллекта в их взаимосвязи с более общими характеристиками (нейродинамическими, психомоторными). С помощью корреляционного и факторного анализа определялись связи между этими функциями и характеристиками, дающие основание для построения возрастных синдромов микропериодов на всем диапазоне возрастной изменчивости от 18 до 35 лет включительно. За 1965-1970 гг. в индивидуальных экспериментах приняли участие 1800 человек, из которых свыше 400 прошли углубленное дифференциально-психологическое исследование.
Второй цикл наших исследований, осуществлявшихся по проблеме комплексного исследования личности лабораторией дифференциальной психологии и антропологии ЛГУ, строился по лонгитюдинальным принципам. На протяжении пяти лет их обучения в университете изучались одни и те же студенты дневного отделения по программе, включавшей исследование их интеллектуального развития, общую реактивность и нейродинамику, психомоторику и перцептивные процессы, мотивацию и характер. Конечные результаты лонгитюдинального исследования выражались в психографиях. По этому циклу исследования было изучено свыше 350 человек.
Итоги этих исследований существенно блегчают решение вопроса о природе и закономерностях развития психофизиологических функций взрослого человека.
Генетическая психология, будучи преимущественно возрастной психологией ребенка и подростка, сосредоточила внимание на процессах нервно-психического созревания, усвоения индивидом общественного опыта, формировании личности, которые определяют как наиболее общие модели психического развития человека. С этих позиций зрелость (взрослость) есть лишь завершение процессов развития и реализации уже сформированных механизмов, свойств и структур поведения, заложенных в детстве. Поэтому зрелость рассматривается как стационарное состояние, характеризуемое более или менее полной стабилизацией функций и свойств сложившейся личности, образовавшегося интеллекта, определившейся ценностной ориентации.
Итак, первая из возможных характеристик психофизиологической природы зрелости, определяемой генетической психологией, — стабилизация функциональных уровней основных деятельностей и образование неопределенно долгого стационарного состояния.
Геронтология, в отличие от генетической психологии, не рассматривает зрелость в качестве «статики жизни». Напротив, она представляется как серия сложных процессов, нарушающих стационарные состояния.
Особое место среди этих процессов занимают инволюционные процессы. Геронтогенез, как показано современной геронтологией, располагается на разных уровнях и в разные периоды жизни взрослого человека.
Следовательно, вторая из возможных характеристик психофизиологической природы зрелости, определяемая геронтологией,- постепенное, не фронтальное, а гетерохронное развертывание инволюционных процессов.
Имеются основания полагать, что стационарное состояние с комплексом стабилизированных функций и инволюционные процессы не составляют полностью структуру развития психофизиологических функций взрослого человека. Главнейшие из этих оснований содержатся в прикладной психологии (педагогической, производственной, военной, спортивной и т. д.), доказывающих наличие процессов становления, структурно-динамических преобразований поступательного, конст- руктивного характера. И в самой геронтологии констатировано действие каких-то психо- физиологических факторов, противостоящих инволюционным процессам.
Таблица 14
Соотношение моментов развития в различные микропериоды зрелости
Эти факторы оцениваются как своеобразные процессы восстановления нарушаемых геронтогенезом функциональных уровней, и мы можем назвать эти процессы реституционными, если рассматривать новообразования развития в этом возрасте в их отношении к инволюционным процессам.
Есть, следовательно, третья из возможных характеристик психофизиологического развития взрослого человека — противостояние инволюционным процессам в виде реституционных и конструктивных процессов развития.
Мы предположили, что природа психофизиологического развития зрелости разнородна и противоречива. Она представляет, как можно думать, сложную структуру различных процессов: повышения функционального уровня различных механизмов деятельности, стабилизации этих уровней и их понижения. Требовалось выяснить и то, в какой степени допустимо идентифицировать моменты понижения функциональных уровней с явлениями инволюции функций.
Решение этого важного и трудного вопроса возможно, конечно, лишь в связи с исследованием возрастной динамики психофизиологических функций путем последовательного сопоставления всех моментов повышения, стабилизации и понижения функций разных систем, как элементарных, так и сложных, включая интеллект в целом или тип личности.
В итоге наших многолетних комплексных исследований мы имели возможность сопоставить (в метрических величинах возраста — годах жизни) эти моменты, взаимодействие которых образует структуру развития психофизиологических функций взрослого человека (при возрастном диапазоне от 18 до 35 лет). Нами были выделены (по данным всех наших сотрудников) эти моменты по всем кривым возрастной динамики функций и рассчитана частота каждого из моментов в общей структуре развития.
Таким образом, были выделены годы жизни, на которые приходились моменты повышения, стабилизации и понижения функционального уровня. Именно в этих критических точках фокусируются наиболее существенные изменения многих функций, образующие тот или иной микропериод зрелости.
Обратимся к этим сопоставлениям, материалы для которых приведены в сообщениях наших сотрудников. Сопоставляемые характеристики процессов в их временном (метрическом) выражении приведены в табл. 14.
Отметим, что в этой структуре наименьшая частота моментов относится к стабилизации уровней. Собственно стационарные состояния встречаются только в 14,2% от общего числа. Причем длительность этих состояний измеряется 2-3 годами, лишь в одном из случаев — 4 годами.
Наибольшая частота моментов относится к положительным сдвигам (повышения функционального уровня); на долю этих конструктивных процессов приходится 46,6% от общего числа моментов. Обращает на себя внимание и значительность отрицательных сдвигов (моментов понижения), достигающих 39,2%. Однако мы уже можем утверждать, что ряд подобных отрицательных сдвигов предшествуют оптимумам и являются, таким образом, скрытым периодом перестройки функций, подготовляющим ее подъем.
Это противоречивое совмещение разнородных процессов и образует сложную структуру развития психофизиологических функций взрослого человека. Интересно отметить, что данная структура видоизменяется в различные периоды.
Наибольшая концентрация конструктивных сдвигов характерна для раннего (18-22 г.) и среднего возраста (23-32 г.), а отрицательных сдвигов — для двух периодов, отличных друг от друга (23-27; 33-35 лет). Стабилизация в наибольшей мере характерна для 33-35 лет, являющихся предельными для изучавшихся нами возрастных контингентов. Разумеется, что это условное деление (по пятилетиям) отнюдь не является возрастной периодизацией, для которой еще должна быть создана основа.
Примечательно, что эта противоречивая структура развития характеризует как самые сложные образования (например, общий, вербальный и невербальный интеллект, логические и мнемические функции), так и самые элементарные процессы (например, теплообразование или метаболизм) и свойства индивида (нейродинамические характеристики). Так, наибольшие величины положительных сдвигов отмечены были в насыщении крови кислородом, общем интеллекте, динамичности торможения, вербальном интеллекте и т. д., а наименьшие — в невербальном интеллекте, с одной стороны, динамичности возбуждения и теплообразования — с другой. Можно предполагать, что эти конструктивные сдвиги связаны с прогрессом механизмов, способствующих сенсибилизации.
Не менее интересны качественные характеристики отрицательных сдвигов.
Наибольшие величины сдвигов были отмечены в области невербального интеллекта, памяти, динамичности возбуждения, психомоторике, а наименьшие — с одной стороны — в мышлении, насыщении крови кислородом — с другой.
Что касается моментов стабилизации, то наибольшие величины относятся к области вербального интеллекта и внимания — с одной стороны, теплообразования — с другой.
Несомненно, что отмечаемые структурные особенности психофизиологического развитии взрослых людей имеют общий характер и характеризуют его многоуровневую природу.
Структурность общей природы развития в периоды зрелости проявляется в сложных противоречивых зависимостях одних функций от других, их соотносительности и скоррелированности изменений, описанных в ряде сообщений наших сотрудников.
Наиболее очевидны эти зависимости между логическими и мнемическими функциями в их развитии, что объясняется, вероятно, их принадлежностью к одному классу интеллектуальных процессов — переработки информации.
В интеллектуальном развитии взрослых людей моменты повышения мнемических функций предшествуют моментам повышения уровня развития логических функций. Больше того, в ряде микропериодов моменты повышения одной из функций сочетаются с моментами понижения уровня развития другой. Весьма примечательны противоречивые связи между вниманием и интеллектуальными функциями.
В наших исследованиях установлено, что с возрастом увеличивается как число корреляционных межфункциональных связей, так и теснота их. Стабилизация корреляционных плеяд отмечается лишь после 30 лет. Одновременно меняется характер связей, и нередко положительные корреляции сменяются отрицательными. Отмечается вместе с тем прогрессирующее ограничение автономности каждой из функций и всевозрастающее структурирование интеллекта и личности, все более эффективное развитие их целостности. Существенное значение для понимания жизненной роли этого процесса целостности интеллекта и личности имеют интеллектуально-метаболическое и интел- лектуально-нейродинамические констелляции, являющиеся индикаторами общей структуры психофизиологического развития взрослого человека.
Суббота, Декабрь 24th, 2011
Возрастные характеристики индивидуального развития человека есть характеристики временные. Как и всюду, в индивидуальной жизни время определяется материальными процессами, структурой и динамикой развивающейся материальной системы, одной из форм существования которой является время. Неотделимость времени, как и пространства, от движущейся материи имеет капитальное значение и для понимания так называемого биологического времени функционирования отдельных органов и их констелляций, онтогенетической и филогенетической эволюции целостных систем. Возраст чаще всего определяется как длительность существования того или иного тела, материальной системы, вида, реакций и т. д. Так, например, Я. Ф. Аскин пишет, что «понятие возраста синонимично длительности» [1966, с. 88] и, следовательно, относится к количественным характеристикам биологического времени. Эта метрическая характеристика биологического времени выражает существенные свойства не только онтогенетического развития, но и филогенетического ряда, к которому относится данный онтогенез.
Возраст отдельного организма можно рассматривать как одну из интегральных его характеристик, измеряемых масштабом средней продолжительности жизни всех индивидов данного вида. Среди млекопитающих Homo sapiens занимает одно из самых первых мест по продолжительности жизни, а среди приматов — первое место. По отношению к наиболее высоким из них по уровню развития, например, шимпанзе, продолжительность жизни человека превышает в 3,5-4 раза величину как средней, так и максимальной продолжительности их жизни. Это явление объясняется увеличением коэффициента цефализации в человеческом развитии (сравнительно с другими приматами) под влиянием труда, языка и других социально-исторических факторов.
Это влияние усиливается по мере исторического развития, и увеличение средней продолжительности жизни индивида вполне правомерно рассматривается как один из показателей социального прогресса и совершенствования Homo sapiens. Тем не менее нельзя считать, что сущность возраста сводится лишь к длительности существования индивида, определяемой по отношению к средней продолжительности жизни вида Homo sapiens. Метрическое свойство времени далеко не исчерпывает эту сущность. Возраст не сводится только к сумме прожитых лет, к общему времени жизни индивида, к определенному моменту его существования.
Другим свойством, не менее важным, чем метрическое, является качественная характеристика времени, его топологическое свойство — однонаправленность, одномерность, необратимость («стрела времени»). Именно это свойство представлено в процессе становления, его фазности, временной упорядоченности и последовательности состояния. Возраст есть определенность того или иного состояния, фаза или период становления, метрически определяемых по отношению к общему видовому эталону продолжительности жизни.
Следовательно, возраст индивида соединяет метрическое и топологическое свойства времени: длительность существования (исчисляемого с момента рождения) и определенность фазы становления — периода развития индивида.
Авторы современных классификаций (периодизаций) фаз жизненного развития человека стремятся, хотя и не всегда с достаточным успехом, сочетать обе временные характеристики в единой классификационной схеме. Примечательно, что расхождение между учеными в понимании основных фаз жизни (процесса становления) приводит к метрическим расхождениям в оценке продолжительности жизненных промежутков. Однако в любой из современных классификаций возрастов содержатся оба параметра времени — метрическое и топологическое, охватывающих весь жизненный цикл человека. Рассмотрим некоторые из этих классификаций. Одной из наиболее распространенных является классификация, используемая Дж. Бирреном, специально учитывающая продолжительность каждого из отрезков (промежутков) жизненного цикла человека (табл. 13).
Продолжительность фаз жизненных промежутков (Биррен, 1964)
Эта классификация фаз как возрастов не всегда выдерживается, так как выделение дошкольного периода (по социально-педагогическому признаку) нарушает такой принцип и тесно связано со ступенями общественного воспитания, принятых в англо-американских странах. Сомнительно слияние в один период отрочества и юности, вследствие чего юность фактически отождествляется с подростковым (пубертатным) периодом. Условность и произвольность такой (и других подобных) конструкций возрастов объясняется состоянием генетических исследований (в психологии человека).
Интересна вместе с тем попытка определить продолжительность каждой фазы, учитывая их разнородность и закономерность возрастающей продолжительности более поздних фаз (сравнительно с более ранними). Эта закономерность не является чисто биологической, так как не имеет соответствий в онтогенезе других приматов, но также и не может трактоваться как чисто социальная особенность накопления индивидуального опыта в процессе онтогенетической эволюции. Сплав органического и культурного в индивидуальном развитии человека динамически проявляет себя в обоих параметрах времени человеческой жизни: по мере преобразования фаз жизни, периодов становления изменяется их продолжительность в современных исторических условиях. Действительно, следует учитывать при определении продолжительности пубертатного периода закономерность ускорения общесоматического и полового созревания, а при определении продолжительности некоторых периодов зрелости, напротив, замедления процессов старения в современных исторических условиях.
Классификация Дж. Биррена, однако, не является единственной пробой сочетания обоих параметров времени в возрастной классификации. Другой, причем более фундаментальной, пробой является классификация Д. Бромлей, предложенная в 1966 г. [Bromley, 1966]. В ее классификации собственно возрастом называется длительность той или иной стадии жизни, которых она насчитывает 16. В свою очередь стадии являются основными моментами общих циклов человеческой жизни, к которым она относит эмбриогенез (период беременности), детство, юность, взрослость, старение, старость. Метрически оцениваются не эти общие циклы, а составляющие их стадии, каждая из которых подробно характеризуется ею на основании экспериментальной психофизиологии и социальной психологии. Стадии и циклы являются качественным описанием процессов становления, которым соответствуют диапазоны колебаний длительности этих состояний развития. Поэтому, несмотря на терминологическое ограничение в возрастных характеристиках, мы имеем основание рассматривать классификацию Д. Бромлей как новую возрастную периодизацию.
Первым циклом, охватывающим четыре стадии первоначального развития индивида, является внутриутробный период с его сменой последовательных состояний (зигота эмбрион зародыш рождение). Длительность этого цикла измеряется по продолжительности периода беременности и существования индивида в материнской среде.
Все последующие стадии измеряются по продолжительности от момента рождения.
Второй цикл (детство) охватывает три стадии: младенчество (от рождения до 18 месяцев), предшкольное детство (от 19 месяцев до 5 лет), раннее школьное детство (от 5 до 11-13 лет). Каждой из этих стадий Д. Бромлей дает определенную социальную и психофизиологическую характеристику, услож- няющуюся по мере становления личности.
Четвертый цикл, наиболее полно охарактеризованный на основе новейших исследований, — взрослость. Он состоит из трех основных стадий: ранней взрослости (21-25 лет), средней взрослости (25-40 лет), поздней взрослости (40-55 лет). Средняя точка этого цикла развития находится, по Д. Бромлей, между 45-50 годами. Она выделяет в качестве особой переходной стадии предпенсионный возраст (55-65 лет в условиях современной Великобритании).
Пятый, последний цикл — старение включает три стадии: отставки, или удаления от дел (65 лет и более), старый возраст (70 лет и позже) и окончательный — болезни и смерти (максимум в условиях Великобритании — 110 лет при средней продолжительности жизни в этой стране, по данным 1965 г., мужчин — 68 лет, женщин — 74 года).
Классификация Д. Бромлей интересна потому, что она делит периоды жизни на циклы и стадии, измеряемые различной продолжительностью в зависимости от жизненного содержания этих моментов становления. Она сделала серьезную пробу сравнительновозрастной характеристики развития интеллекта, эмоционально-волевой сферы, мотивации и социальной динамики личности, оставляя в стороне морфологические сдвиги и возрастную динамику трудоспособности. Эта сторона развития, напротив, была выделена Г. Гриммом [1967] в качестве специфической основы для периодизации развития взрослого человека. Г. Гримм справедливо отмечает, что разделение человеческой жизни на те или иные отдельные отрезки вряд ли можно осуществить, исходя из одного какого-либо принципа, так как в каждом из периодов выдвигается другой, некоторый новый (по сравнению с предшествующим) принцип развития (вид питания, моторики, половое созревание, продуктивная деятельность и т. д.). Периоды внутриутробного развития определяются Г. Гриммом по метрико-антропометрическим критериям для всех моментов роста и созревания. Затем он особо выделяет период достижения оптимальной трудоспособности — трудоспособный возраст, как он называет взрослость. После наступления первых признаков обратного физического развития и снижения работоспособности отмечается своего рода ранний этап геронтогенеза. Старческий возраст Г. Гримм определяет как преодоление процессов разрушения со значительным снижением работоспособности. Затем наступает снижение деятельности органов ниже уровня, необходимого для поддержания жизни, — физиологическая смерть. Весьма примечательно, что классификация Г. Гримма строится чисто качественно, без метрических определений продолжительности каждой из фаз, хотя им указываются верхние пороги или границы главнейших из них. По мнению Г. Гримма, «числовые выражения для определения временных границ периодов… возможны только для первых периодов» [1967, с. 12]. Чем более поздним является период роста и созревания, тем менее определенными становятся величины, характеризующие его начало (нижний порог) и окончание (верхний порог), т. е. переход к следующей ступени. Что касается взрослости или зрелости, определяемых им как период трудоспособности, то автор замечает следующее: «Длительность периода трудоспособности резко колеблется в зависимости от индивидуальных качеств и величины нагрузки. Что касается функции воспроизводства, то у женщин начиная с 35-летнего возраста происходит заметное снижение плодовитости. Климактерий у женщин с постепенным прекращением менструаций представляет гораздо более отчетливую пограничную зону и наступает около 48 лет. У мужчин эта граница выражена менее отчетливо. Такой спорный показатель, как «перелом в работоспособности, может, во всяком случае, не выступать на передний план, так как он в гораздо большей мере зависит от неблагоприятных условий работы, и в условиях высокоразвитого производства, отвечающего требованиям гигиены труда, он вряд ли проявляется в виде «перелома». Естественно, что с возрастом у мужчин все в большей степени проявляются симптомы физического регресса, которые в конечном счете могут привести к инвалидности. Однако возрастные границы работоспособности могут колебаться от 50 до 80 с лишним лет» [там же, с. 12].
Г. Гримму, как видим, не удалось исключить длительность фаз из общего описания процесса становления. Взаимосвязь обоих параметров времени входит, следовательно, в любое определение возрастных характеристик. Однако поставленный Г. Гриммом вопрос о нарастающем усилении возрастной и индивидуальной изменчивости в периоды зрелости и старения заслуживает особого внимания. Дело в том, что индивидуальное развитие человека не сводится лишь к онтогенетической эволюции, реализующей определенные филогенетические программы. Индивидуальное развитие одновременно выступает и как социально обусловленный жизненный путь человека, как история становления личности в конкретном обществе, на определенном этапе его исторического развития.
Жизненный путь человека, начинающийся с процесса формирования личности в семье и различных звеньях общественного воспитания, имеет своим основным содержанием развитие деятельности человека в обществе. Начало деятельности (старт), ее развитие по мере накопления жизненного и трудового опыта и достижение наибольшей продуктивности в производстве материальных и духовных ценностей (пик, или оптимум деятельности), наконец, прекращение деятельности (финиш) — все это основные моменты развития человека как личности и субъекта деятельности.
Структура жизненного пути и его временные характеристики определяются общественно-классовым статусом личности, ее функциями и ролями в определенном обществе, в конкретной общественно-исторической формации. Поэтому как структура жизненного пути, так и основные его моменты (старт, оптимумы, финиш) изменяются в ходе исторического развития от поколения к поколению.
Одни и те же онтогенетические свойства, в том числе и возрастные, функционируют с разными скоростями в зависимости от поколения, к которому принадлежит данный индивид. В общественном развитии человека важное значение имеет время жизни поколения в определенную эпоху, модифицирующее те или иные возрастные особенности. Это обстоятельство прежде всего сказывается в умственном отношении, поскольку объем информации удваивается в нашем столетии с каждым десятилетием. Поэтому в одни и те же промежутки времени интеллектуальное содержание, в том числе и объем знаний и система интеллектуальных операций, существенно изменяются с общим прогрессом образованности и культуры. Однако влияние общественно-исторического развития на темпы индивидуального развития не ограничивается лишь приростом емкости интеллекта, но распространяется на весь процесс этого развития. Имеются данные об увеличении почти с каждым поколением не только средней, но и нормальной продолжительности жизни человека. Установлено, что в нашем столетии (сравнительно с XIX в.) изменяются темпы и сроки как завершения созревания, так и начала старения. Установлено явление ускорения, или акселерации, общесоматического и нервно-психического созревания, а вместе с тем более позднего наступления климактерического периода и общее замедление процессов старения. В связи с этим изменяется длительность тех или иных возрастных стадий, увеличивается общая продолжительность юности и взрослости. Следовательно, как и в отношении длительности, так и в отношении моментов становления, т. е. обоих параметров времени индивидуального развития, проявляется влияние исторического времени на это развитие.
Возраст человека следует рассматривать как функцию биологического и исторического времени. Как человек в целом, так и его временные характеристики, в том числе и возраст, есть взаимопроникновение природы и истории, биологического и социального. Поэтому возрастные изменения тех или иных свойств человека являются одновременно онтогенетическими и биографическими. Следует считать односторонними и устаревшими представления о возрастных особенностях человека как чисто биологических феноменах. Фактор возраста, который рассматривается в психологических исследованиях, является в действительности суммацией разнородных явлений роста, общесоматического, полового и нервно-психического созревания, зрелости или старения, конвергируемых со многими сложными явлениями общественно-экономического, культурного, идеологического и социально- психологического развития человека в конкретных исторических условиях. Таким предстает фактор возраста и в интересующей нас области. Возрастные изменения сенсорно- перцептивных процессов, рассматриваемых ниже, могут быть правильно поняты лишь в свете диалектической взаимосвязи органического и социального в психическом развитии человека.
Известным основанием для постановки этого вопроса явились значительные поиски в истории психологии и социальной психологии. С разработкой их проблем в психологию вошла категория исторического времени, являющегося параметром общественного развития и одной из характеристик исторической эпохи, современником которой является данная конкретная популяция и исследуемая личность.
События в жизни отдельного народа и всего человечества (политические, экономические, культурные; технические преобразования и социальные конфликты, обусловленные классовой борьбой; научные открытия и т. д.) определяют даты исторического времени и определенные системы его отсчета.
Историческое время, как и все общественное развитие, одним из параметров которого оно является, оказалось фактором первостепенного значения для индивидуального развития человека. Все события этого развития (биографические даты) всегда располагаются относительно к системе измерения исторического времени (исторические даты). Объективные социально-экономические различия между событиями в ходе исторического развития определяют различия между поколениями людей, живущих в одной и той же общественной среде, но проходивших и проходящих одну и ту же возрастную фазу в изменяющихся обстоятельствах общественного развития. Возрастная изменчивость индивидов одного и того же хронологического и биологического возрастов, но относящихся к разным поколениям, обусловлена, конечно, социально-историческими, а не биологическими (генотипическими) причинами [Birren, 1964, с. 29]. (В качестве примера можно сослаться (в извлечениях) на статистические данные ряда американских авторов об изменении среднего возраста мужчин и женщин, впервые вступающих в брак (время их первого брака), приведенные Дж. Бирреном. Он отмечает постепенное снижение («омолаживание») величин, более резко выраженное у мужчин. В 1890 г. средний возраст для женщин равнялся 22.0 годам, а для мужчин — 26.1 годам. В 1949 г. для женщин этот возраст был равен 21.5, а для мужчин — 24.3. Зато уже в 1959 г. средний мужской возраст оказался равным 22.3 годам, между тем как средний женский возраст снизился незначительно — до 20.2 года. Не менее интересны данные о среднем возрасте обследованных супругов, когда был заключен брак первого (старшего) из их детей. В 1890 г. потенциальной бабушкой женщина становилась (в среднем) в 55.3 года, а в 1959 г. — в 47.1 года. Соответственно и мужчины становились потенциальными дедами: в 1890 г. — в 59.4 года, а в 1959 г. — в 49.2 года, т. е. на 10 лет раньше.)
В психологии было найдено много фактов, свидетельствующих о зависимости конкретных психических состояний и процессов индивида от исторического времени. Установлено, например, что системы произвольной памяти в течение воспоминаний зависят от расположения их относительно «оси» исторического времени.
В социальной психологии имеются многие данные о быстрой смене перцептивных установок людей в зависимости от хода исторического времени. Восприятие человека и социальных групп человеком (социальная перцепция) всегда соотнесены с особенностями исторической эпохи и жизни народа: они могут быть измеряемы и с помощью системы исторического бремени. Такое измерение распространяется на всю сферу эстетического восприятия; историзм человеческого восприятия распространяется фактически на все вещи и предметы, созданные людьми в процессе общественного производства и образующие искусственную среду обитания, расположившуюся в естественной среде обитания (природе).
Историческое время, как таковое, конечно, издавна изучается в общественных науках. Но глубокое проникновение исторического времени во внутренний механизм индивидуально-психического развития стало предметом исследования лишь новейшей психологии, и оно послужило определенным основанием для постановки вопроса о генетических связях в этом развитии.
* * *
Возрастные изменения в процессе индивидуально-психического развития изучаются многими методами (наблюдения, естественного и формирующего эксперимента, психо- графическими, психодиагностическими и др.). Специфически возрастным не является какой-нибудь отдельный метод. Возрастная психология потребовала специальных комплексов методик обработки и интеграции данных, а затем и сочетания этих комплексов для генетических целей.
Речь идет о сочетании метода так называемых возрастных поперечных срезов (Cross-Sectional Study) с методом «длинника» (Longitudinal Study) (более подробно по этому вопросу см. с. 84-88).
…В 1951-1959 гг. под нашим общим руководством в Ленинградском научно- исследовательском институте педагогики проводились три цикла исследований с использованием этих методов. Один из них начинался с изучения детей в старшей группе детского сада и завершался с окончанием ими начальной школы (см.: Ананьев и Сорокина [1955]; Ананьев [1958]; [1960]; Сорокина и Голенкина [1960]).
В последующие годы лонгитюдинальный метод был использован в других, весьма важных для теории начального обучения и детской психологии циклах исследований. Один из них, ориентированный на достижение высоких результатов в общем развитии детей, преимущественно с помощью новых методов начального обучения, выполнен под руководством Л. В. Занкова (см.: Новая система начального обучения [1966]).
Другой цикл исследований, выполненных под руководством Д. Б. Эльконина (см. сб.: Возрастные возможности усвоения знаний [1966]), решал проблему взаимосвязи обучения и развития, достижения высоких результатов интеллектуального развития детей преимущественно с помощью введения нового содержания в программу начального обучения.
Между обеими новыми системами начального обучения, построенными на разных психолого-педагогических принципах, проис- ходит в настоящее время поучительная во многих отношениях дискуссия, которую мы не имеем возможности здесь рассматривать. Отметим лишь, что как в наших предшествующих, так и в этих обоих циклах исследования лонгитюдинальный метод имел вспомогательное значение. Такое положение этого метода в психолого-дидактических исследованиях хорошо объяснил Д. Б. Эльконин с позиций «активного формирования процессов развития».
На упоминавшемся выше симпозиуме Д. Б. Эльконин так формулировал эту позицию: «Методы длительного систематического прослеживания этого процесса, срезовые исследования отдельных параметров развития являются лишь вспомогательными приемами, которые, будучи использованы сами по себе, вне процесса активного формирования, не могут раскрыть подлинных источников и закономерностей психического развития» (Труды XVIII Международного психологического конгресса, вып. 29, 1966, с. 61]. При этом он ссылается на данные Я. А. Пономарева, который, изучая внутренний план действия (ВПД), обнаружил к концу начального обучения в контрольных классах лишь 39% детей, достигших высокого интеллектуального уровня; причем этим же методом было установлено постепенное затухание кривой интеллектуального роста учащихся этих классов. Между тем в экспериментальных классах показатель ВПД обнаружил прогрессивное возрастание и более высокий уровень интеллектуальных возможностей детей: в начале обучения этот показатель равнялся 0,2%, к концу I класса- 19%, II — 37%, III — 59% и IV класса — 75%. Таким образом, принцип активного влияния на процессы развития посредством использования нового содержания в экспериментальном обучении оказался плодотворным для исследования возрастных возможностей усвоения детьми знаний и более тонкого определения интеллектуального потенциала детей.
Возрастная возможность есть вместе с тем возможность самого обучения раздвигать границы развития в каждый отдельный момент времени. Поэтому в возрастной возможности такого рода содержится не только характеристика статуса того или иного возрастного синдрома, но и тенденция развития, перехода ребенка на более высокую ступень, т. е. генетических связей развития. Однако и в таком смысле возрастная возможность неразрывно связана с возрастными границами, так как она обозначает передвижение (благодаря обучению) с верхнего порога предшествующего возраста на нижний порог последующего возраста (микро- или макровозрастной ступени). Такие передвижения всегда есть преобразование реально существующих возрастных лимитов; это преобразование носит исторический характер и обусловлено социальной природой обучения и развития.
При таком совмещении противоречивых понятий возрастных возможностей и лимита удастся, как мы думаем, найти путь к пониманию единого сплава органического и культурного развития как психологического содержания возрастных характеристик ребенка.
Возвратимся, однако, к лонгитюдинальному методу, который, несмотря на существенные различия между упоминавшимися тремя циклами исследований, использовался в них лишь в качестве вспомогательного метода. Это, как мы видели на примере аргументации Д. Б. Эльконина, имело положительный смысл и привело к важным заключениям о сущности психического развития детей в процессе начального обучения.
Позволим теперь обратиться к отрицательным следствиям такого ограничения гносеологических функций этого метода, которое было допущено и нами в предшествующих исследованиях. Напомним, что лонгитюдинальный метод специально рассчитан на изучение генетических связей между фазами жизни как ближних, так и более отдаленных. Поэтому на коротких отрезках (например, период начального обучения) его ценность незначительна. По отношению к отдельному отрезку времени (возрастному статусу) этот период может быть совместим с методом поперечных возрастных срезов, но и в том и в другом случае требуется применение корреляционного и факторного анализа: а) комплекса явлений, образующих этот статус, и б) факторов, их определяющих. В этом строгом смысле слова, насколько нам известно, данные методы не применялись в рассматриваемых исследованиях именно потому, что в них не придавалось основного значения собственно генетическим методам детской психологии.
Наконец, что особенно важно, лонгитюдинальный метод позволяет определять диапазон возрастной изменчивости и индивидуальной вариабельности фаз жизненного цикла, что составляет основу дифференцированного управления процессом развития. Эта изменчивость и вариабельность многопланова, так как существует гетерохронность созревания (или старения) отдельных функций и свойств личности. Поэтому и действия одного и того же фактора обучения многозначны: от высокополезного действия на одни функции до полного отсутствия эффекта в других, а в ряде случаев — отрицательное влияние на какую-либо из коррелирующих функций.
Любое совершенствование обучения в современных условиях предполагает оптимальное сочетание фронтальных (общеклассных), групповых и индивидуальных работ, а следовательно, и дифференцированный учет вариантов развития детей, особенно различия в темпах гетерохронного созревания функций и эффективности в этих условиях различных компонентов обучения.
В общей системе управления (посредством воспитания и обучения) развитием детей учитываются однородные связи между соответствующими (гомологичными) частями воспитания и сторонами развития детей.
Эти связи можно представить в виде схемы.
Однако такие гомогенные связи нельзя искусственно обособлять от гетерогенных, перекрестных связей между разнородными компонентами воспитания и развития [Б. Г. Ананьев, 1966а].
Если объединить оба рода взаимосвязей (гомогенных и гетерогенных), то усложнение всей картины может быть представлено в виде следующей схемы.
Между всеми компонентами воспитания и развития существуют взаимосвязи прямые и обратные, положительные и отрицательные, непосредственные и опосредованные. Судить о различных влияниях этих связей на небольшом отрезке времени почти невозможно, так как кроме непосредственных эффектов, проявляющихся вслед за данным воздействием, существуют отсроченные и более обобщенные эффекты. Особенно важны наиболее отдаленные влияния, распространяющиеся в самую глубину структуры личности и ее жизненного цикла. Для определения таких опосредованных и отдаленных влияний, действующих в длинном ряду генетических связей между фазами развития, лонгитюдинальный метод должен быть признан основным. Этот метод может иметь значение и для определения сравнительной ценности разных систем обучения,